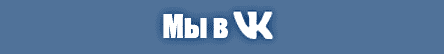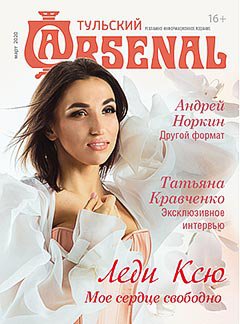СМЕРТЬ СОЛОВЬЯ
сказка
Случилось, умер в лесу соловей. И надо сказать – не мудрено, ибо при талантах, коими покойный обладал – дожить до старости у него не было ни малейшей возможности. Талантлив был, сукин сын, до гениальности. Главное, настолько ему всё легко давалось, как бы само собой выходило, что думалось – вдыхал он самый обычный воздух, а выдыхал уже трогательные романсы, этюды, увертюры, шуточные оперетты и, даже, тожественно-проникновенные гимны, грустно-лирический полонез, полный предчувствия, томящий и тревожащий душу неожиданностью, в горький час осеннего прощания с Родиной. Многое подарила миру мятежная, не знающая покоя, а посему и пребывающая в вечном поиске, соловьиная душа.
Когда только что успевал: концерты, гастроли, преподавательская деятельность, лекции об искусстве зарубежных композиторов, плюс ко всему многочисленные чада, вечно требующие есть и клянчащие модные обновки, измученная ими, потому и постоянно недовольная жена – соловьиха, зудящая, как больной зуб денно и нощно о проблемах треклятого быта. Покойный был добрый малый, но не от мира сего, на земле он словно не жил, а витал где-то в поднебесье своих грёз и творческих замыслов. Таких деньги не любят, и богатство к ним не пристаёт, хоть в еловой смоле изваляйся. И впрямь, несправедливо устроен мир. Посмотришь, какая-нибудь канарейка – ни голоса, ни слуха, весь репертуар из десяти песен, что ещё в детском саду заучила, топчется на одной октаве, как по жёрдочке бегает, дальше ни-ни, кишка тонка, а глядь – ест на серебре, пьёт из китайского фарфора, на каждом коготке по перстенёчку с бриллиантином. А всё почему – умна, хитра, бережлива, такая и в долг никому не даст, и задаром петь не станет, у неё каждая нотка по прейскуранту.
Соловей же был не то, чтобы глуп, а, мягко говоря, не практичен. Деньги через его руки как вода текли: были дни, в ресторане осетровой икрой плевался, устраивая попойки для всей лесной братии, в большинстве своём, тварей пустых и никчёмных, любовниц в бархат и парчу разодевал, скупая им целые розовые кусты, как есть на корню; а было, когда в конец промотавшись, перебивался чёрствым сухариком, запивая его родниковой водицей. Но в уныние не впадал: пел, творил. Ему было всё равно перед кем петь: в концертном ли зале, или друзьям на пьяной пирушке – пел, словно поёт последний раз в жизни. Зачем? Для чего? Такова уж была соловьиная натура. Вот в то утро сел он на малиновый куст, чтобы поприветствовать восходящее красно солнышко, зазвенел его голос в лесной чаще, словно серебро посыпалось – чисто, звонко, чарующе, и нужно ему было в самом конце, такую ноту вывернуть, которую он до сих пор никогда не брал, вознёс он её чуть ли не до тускнеющих не бледном небе звёзд – тут сердечко его птичье зашлось от восторга, и – остановилось.
Вот сейчас лежит он в маленьком дубовом гробике, выдолбленном поспешно дятлом в долг, под «тадысь», облачённый в чёрный фрак, изрядно потёртый на локтях и во многих местах спереди сигаретами прожженном, клювик кверху задрал, лапки на груди скрестил, глазки закатил, словом – отмучился.
Как водится, толпа вокруг гроба: новоиспечённая вдова – соловьиха с заспанными детками, исподтишка раздающая им подзатыльники, дабы те вели себя прилично при народе, далее собратья по перу, закадычные друзья – бражники, случайные собутыльники, поклонники и поклонницы, журналисты, критики, просто зеваки, которые шли по своим делам, да невзначай на толпу наткнулись и решили полюбопытствовать, что это народ бурлит, и пребывающих пока в полном неведенье – то ли бока обломают, то ли перепадёт чего. Представители от власти держатся особняком: четыре ворона в красных повязках, коим поручили сопроводить тело покойного до места его вечного пребывания, мрачно взад-вперёд прогуливаются со скучным видом, явно сожалея о том, что кабан, или лось не преставились, министр культуры – глухарь – птица бельмеса ни в музыке, ни в поэзии не смыслящая, даже на вид солидная, степенная, с достоинством несущая бремя власти; сокол, с полномочием следить за порядком, всякие провокации пресекать, виновных вычислять, имать и поступать с ними по собственному усмотрению.
Нельзя сказать, что соловей был в оппозиции к власти, не был он её и сторонником – ему было на неё наплевать, ни внешняя, ни внутренняя политика его не интересовали. Он пел о вечном: о любви, ненависти, добре, зле, красоте природы, о зове Родины, заставляющем его пернатых собратьев каждую весну лететь из-за тридевятой земли в родной лес. Власть на земле – от Царя, а искусство – от Бога и не всегда эти вещи состыкуются. Об одарённости покойного при дворе слышали, но придворным певцом соловей не стал по ряду причин: во-первых, был свободолюбив, горд и непредсказуем; во-вторых, исходя из вышеперечисленного первого, власть считала его лицом неблагонадёжным, не достаточно серьёзным для столь высокого доверия, не дорожащим репутацией двора в глазах мировой общественности. Он мог отказаться петь для иностранной делегации, ссылаясь на похмелье, послать атташе по – матушке, приударить за женой посла, не задумываясь о международном скандале. Причуды гения не всегда приятны. Поэтому на эту должность был утверждён щегол – певец, конечно, не соловьиного масштаба, зато никакой фортель не выкинет. К тому же соловьиная лирика не только ласкала слух, но и заставляла задуматься о необустроенности этого мира, благословляла к поиску истины, а истина, как известно, сильней царя.
Между тем, гражданская панихида кончилась. Наступил час прощания. Первым слово взял глухарь. Надо сказать, что, даже будучи птицей, от природы недалекой, острым умом не блещущей, он так на своих совещаниях и заседаниях говорить, наловился, что у него иногда, местами, выходило трогательно и искренне.
- Умолк, умолк, навек наш серебряный бубенчик! Выпала золотая лира из рук певца. Кто теперь поднимет ее? Кто сможет вновь заставить звучать ее струны? Кто? – В толпе зарыдали. – Кто тронет струны наших зачерствевших душ? Кто скажет нам сокровенное слово? Покойный говорил нам то, о чем мы сами тысячу раз думали, но не были способны выразить свою мысль – он был нашим голосом, нашим слухом, нашей совестью. Без него мы немы, глухи – глухарь хотел, было сказать «бессовестны», но не сказал. Покойный много страдал, страдал за всех нас – все его творчество – это летописи страдающей души. К великому стыду многие способствовали его страданиям. – Произнеся эти слова, глухарь посмотрел на ястреба, сидевшего на ветке дуба и высматривающего себе жертву для поминальной трапезы. И все посмотрели на него. Как бы отмахиваясь от взглядов недружелюбно настроенной общественности - ястреб встрепенулся:
– Ну и что?! Да, съел я эту глупую малиновку, что у него в полюбовницах ходила, распутницу и вертихвостку. Ее, все равно бы кто-нибудь сожрал, или жены глаза бы ей выцарапали. В ней, честно говоря, прока-то было – комок перьев, только клюв марать. Зато, какой потом соловей романс написал!
«Прощай любовь, что мне дарила счастье
И, вдохновляла, призывала жить».
Слушал и сам плакал, будто это не про блудницу – малиновку сказано, а про мою супругу, что прошлым летом охотники забавы ради застрелили. А как её было не съесть? Она в последнее время настолько обнаглела, что в один, только тот день раз десять мимо меня пролетела, и каждый раз всё ближе и ближе – а я ещё пока в вегетарианцы не записывался. Вы вон к медведю никаких претензий не предъявляете, а он, между прочим, по малине, шастая, все соловьиное семейство порешил.
– Так я ведь ненароком. – Сконфузился медведь. – Откуда мне было знать, что у него там гнездо, к тому же «Баллада о разрушенном доме» посильнее твоего романса будет. Главные виновники соловьиных страданий – его друзья. Всем известно, скворец у него денег занял на три дня и как в воду канул на год, оставив покойного и семью его без средств пропитания.
– Ну-ну, позвольте! – возмутился скворец. – Во-первых, у меня так сложились обстоятельства, во-вторых, соловей мой друг и он мне давно простил, а в-третьих, не займи я у него денег. Вряд ли бы он дал в тот год столько концертов, занялся бы репетиторством, а впоследствии не организовал бы в лесу консерваторию, а сколько прекрасного он за это время написал – тут уж неизвестно, кто кому обязан я ему или он мне.
Дальше началась полная неразбериха. Все стали упрекать друг друга в страданиях гения, обвиняемые принялись оправдываться, что-де, все их подлости и пакости пошли покойному только на пользу, поскольку он отобразил их в своих бессмертных творениях. Видя, что ситуация начинает выходить из под контроля, наделенный полномочиями сокол, подал знак закругляться. Соловья похоронили, но долго еще в народе наблюдалось брожение слухов и версий.
Редкая власть упустит шанс погреться в лучах славы ушедшего в мир иной гения. По высочайшему указу была создана комиссия по изучению литературного наследия соловья. Комиссию возглавил филин – птица образованная, владеющая помимо матерного еще несколькими языками. Однако дело оказалось сложнее, чем казалось бы.
Иной графоман, что есть не больше, чем прыщ на теле искусства, уже на первых днях своего творчества начинает сам создавать себе музей. И все-то у него по полочкам разложено, подшито и пронумеровано, поэзия в одной, проза – в другой, критика – в третьей, доносы его – в четвертой, доносы на него в пятой, словом хоть при жизни приколачивай мраморную доску к дому и делу конец.
А тут все в один ворох свалено, никакого порядка – рукописей отдельных произведений вообще нет, некоторые в нескольких вариациях написаны, оригиналы друзьям, да любовницам раздарены, дневников покойный не вел, многие вещи исполнял по памяти, одними рукописями покойный сам печку растапливал, на других соловьиха не найдя другой бумаги селедку потрошила, словом, как есть, авгиевы конюшни, разгребать и разгребать. Тут еще в редакцию к филину тысячи друзей и подруг мемуары о покойном писали, погряз филин в бумагах, как камыш в болоте. С горем пополам выпустили восьмитомник – разлетелся в одночасье, а толпа жаждет, требует – этакого чего-нибудь такого, перченого из биографии соловья. К черту его стихи, песни, ноты – слышали, знаем, нам куда интереснее его скандалы, с кем спал, сколько мог зараз выпить. Газетчики как свора гончих пустились уже по давно остывшему следу отыскивать новых псевдодрузей, лжелюбовниц. Надо сказать и тех и других сыскалось великое множество.
К соловью филин относился двояко: с одной стороны благоволил, ибо гения такого масштаба ему ещё в жизни встречать не доводилось, а с другой стороны, не мог простить ему той безалаберности, с которой он относился к этому священному дару. Вот лежит сейчас перед ним его новая пьеса: всё прекрасно выполнено, и ключи в нотном стане проставлены, и диезы с бемолями каждый на своей жёрдочке, и вдруг, ни с того, ни с сего, произведение обрывается и корявым подчерком, видно в спешке написано: « И так далее...». А ты вот сиди здесь и думай: что же в тот день за катаклизм такой приключился: смерч ли налетел, или бочку свежего пива привезли. Да главная беда ни эта – приходится обращаться к местным композиторам, а те помимо гонорара требуют, чтобы их писали непременно, как соавторов.
Сидит под вечер филин в своем кабинете, кофе пьет с коньяком, сигареткой наслаждается, дав указания своей секретарше – гнать к чертовой матери всех и друзей и любовниц соловья и его внебрачных детей спускать взашей с лестницы, ибо уже надоели хуже горькой редьки и вдруг слышит чей-то писклявый голос.
– Ну, наконец-то, я к вам добралась, хорошо сорока подбросила, пешком бы мне вовек не доскакать.
Смотрит филин – надо же голос есть, а никого не видно – заработался, слуховая галлюцинация и только было хотел просветлить новой порцией коньяка утомленный разум, снова тот же голос:
– Нет, нет, вам не послышалось. Я на самом деле существую, только вы меня не увидите без увеличительного стекла, наведите лупу не скрепку, что у вас на столе лежит.
Навел филин лупу на скрепку и увидел маленькое мерзкое насекомое.
– Позвольте представиться – блоха. На первый взгляд самая обыкновенная птичья блоха, но не совсем, я в некотором роде блоха уникальная, поскольку долгие годы жила на теле самого соловья. А когда покойный умер, и его супруга наклонилась, чтобы облобызать его – я перебралась с мертвого тела на живое, дальше – впрочем, не будем компрометировать честь несчастной вдовы. Главное, что всякими правдами и неправдами мне удалось добраться до вашей редакции. О соловье сейчас много говорят и пишут, но, клянусь вам, никто ближе меня не знал покойного, я даже помню вкус его крови.
То, что блохи водятся на птицах, ученый филин знал и даже не понаслышке – ему самому они изрядно докучают. А вот блоха, да еще с тела самого соловья – это действительно сенсация. Блоха блестяще выдержала экзамен филина, ответив ему на самые каверзные вопросы относительно соловьиной биографии: она безошибочно называла даты, места, где пел соловей, какой репертуар – сомнений не было, авантюристка знать этого не могла.
Все-таки, в глубине своей души филин был журналистом, в его глазах вспыхнул огонь азарта, завтра он выдаст свету такое, что у читателя глаза полезут на лоб, а газетные писаки умрут от зависти.
Филин спешно послал за стенографисткой. Возможно, блоха издала бы свои мемуары и толпа бы в подлости своей возликовала и принялась бы, смакуя обсуждать сокрытые от нее до сих пор фрагменты жизни гения, если бы филин нечаянно не уронил на нее пресс-папье, под которым всеведущая тварь испустила дух. А может это и к лучшему, ибо есть у каждого таинственная завеса, приподнять которую дозволено лишь Господу Богу.